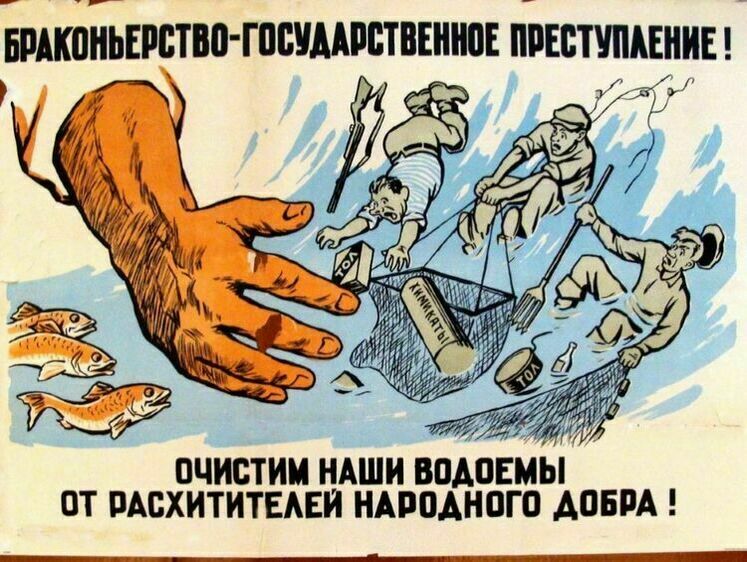Гордума выбрала Юрия Шалабаева главой Нижнего Новгорода, а спикером Законодательного собрания Нижегородской области стал Евгений Люлин.
Оба события возвращают нас к вопросу о том, как на региональном уровне сказывается принятие закона РФ «О совершенствовании организации и функционирования публичной власти» (№ 1-ФКЗ от 14 марта 2020 года). Система региональной публичной власти будет меняться, и для этой перемены требуются соответствующие кадровые ресурсы.
Фигура Юрия Шалабаева отличается тем, что это выходец из среды «Лидеров России», которую под новые задачи вот уже несколько лет формирует федеральный центр. Евгений Люлин, как показал опыт его работы в должности председателя ЗСНО в 2002–2007 годах, также может строить свою деятельность с учетом приоритетов федерального центра, способен редактировать характер отношений между региональным парламентом и региональным правительством.
Новый эпизод настройки механизмов публичной власти Нижегородской области, по всей вероятности, также потребует некоторой редакции по таким составляющим политики, как «область – агломерация Нижнего Новгорода – Нижний Новгород» и «региональная представительная власть – региональная исполнительная власть».
Решения по таким фигурам, как Евгений Люлин, являются результатом определенного консенсуса, в формировании которого участвует не только губернатор, но и руководство партии «Единая Россия», федерация, другие участники, а на последнем этапе – депутаты ЗСНО. Поэтому правильнее говорить не о том, что Глеб Никитин направил Люлина на новое место работы, а о том, что перемещение Люлина в ЗСНО прошло согласование губернатора. Это значит, что структура профессионального, корпоративного доверия в отношениях Евгения Люлина и Глеба Никитина останется в качестве базы всех предстоящих деловых отношений председателя Заксобрания и губернатора, независимо от того, какие изменения будут вноситься в практику отношений соответствующих институтов региональной власти.
Что касается задач, которые предстоит решать Евгению Люлину, то в свете упомянутого федерального конституционного закона стоит обратить внимание на вопросы обновления в понимании приоритетов, форм организации деятельности депутатов представительных институтов на региональном и местном уровне.
Курьез с некоторыми депутатами, которые не появляются на заседаниях, побеждают на выборах с опорой на «бизнес-технологии», красноречиво говорит о декадансе привычного образа депутата. Получается так, что депутатов много, но когда возникает острая нужда сказать избирателям веское, убедительное, понятное слово в поддержку чего-либо или в порядке критики чего-либо – некому. Поэтому одна из стоящих перед Люлиным задач – найти новое содержание региональной миссии депутата, новое содержание его отношений с избирателями.
По поводу Юрия Шалабаева стоит отметить, что в администрацию города вместе с ним пришло еще несколько выходцев программы «Лидеры России». Это прямое включение в актуальную работу нового кадрового ресурса, который нарабатывает федерация. И речь идет о командной работе. Кроме того, новый формат командной работы предполагает также и формирование контура управления агломерацией Нижнего Новгорода. Здесь также предстоит решать новые задачи, готовых решений по которым «в конце учебника» нет.
Я думаю, что в координации с правительством области, ЗСНО, руководителями Кстова, Дзержинска, Бора новая администрация Нижнего Новгорода сможет отработать свои «узлы» и задачи. То же касается и празднования 800-летия Нижнего Новгорода: это не узкогородское мероприятие, но событие регионального и, хочется надеяться, российского масштаба, в котором город отрабатывает свою часть общей программы.
Тенденция последних двух лет – это расширение степеней свободы для региональной и местной публичной власти. Борьба с пандемией достаточно ярко высвечивает эту тенденцию: центральные власти апеллируют к региональным и местным властям, чтобы те самостоятельно «включали мозги», самостоятельно и ответственно определяли дозировку мер, связанных с ограничениями, оценивали дефициты материальных запасов и т. п.
Проблема скорее в том, что местные и региональные чиновники боятся самостоятельно принимать решения, как от огня прячутся от «самостоятельности». Основное содержание тенденции связано скорее с возвращением элементов самостоятельной публичной политики – политики в конкретных секторах социально-экономической активности – на муниципальный и региональный уровень. Однако эта новая самостоятельность – хлопотное дело, и сложившееся в 2009–2017 годах чиновничество не спешит ею воспользоваться.
МСУ предстоит включить не «в вертикаль», а в единую систему публичной власти России. А это совершенно иная задача.