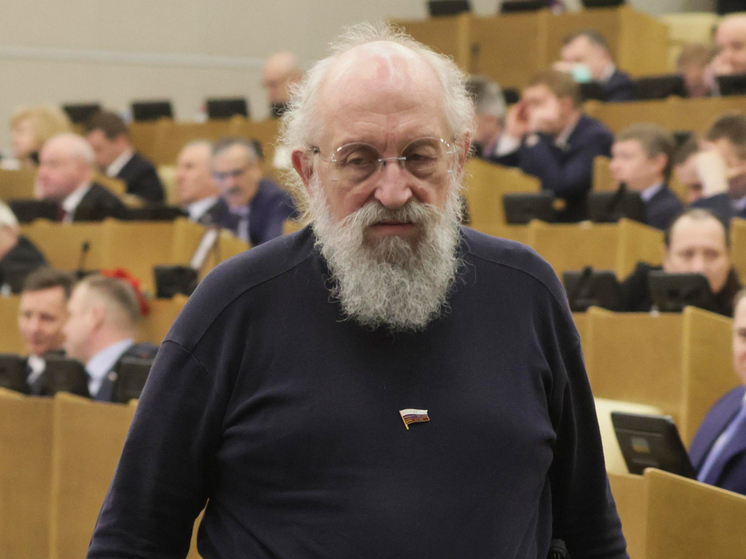«Человек, возродивший кремль»
Мы хотим познакомить вас с местами, связанными с жизнью и деятельностью выдающегося реставратора, ученого, педагога Святослава Агафонова, со дня рождения которого 9 сентября этого года прошло 100 лет. Заслуженный архитектор РФ, профессор, лауреат многих премий, Почетный академик Российской академии архитектуры и строительных наук, Почетный гражданин Нижнего Новгорода – и все эти награды и звания он получил за то, что сохранил для нас самые древние архитектурные памятники города, и среди них, конечно же, главный шедевр русской средневековой архитектуры – Нижегородский кремль.
Мы с вами пройдем по местам, связанным с его именем, и наша виртуальная экскурсия начнется у стен кремля. Да, за свою жизнь Агафонов собрал много регалий, но выше всех званий то, что подарила ему народная молва. «Он – человек, возродивший кремль», - так говорят о нем нижегородцы.
Агафонов родился в семье городского архитектора, новатора и изобретателя Леонида Дмитриевича Агафонова и получил при рождении довольно редкое для начала ХХ века имя – Святослав. Возможно, это тоже определило его будущее – редкую профессию, связанную с изучением исторических памятников. Маленький Святослав рисовал с пяти лет, уже в раннем возрасте показывая твердость руки, умение видеть и изображать перспективу, интерес к архитектуре. В его ранних рисунках – кремли, притягивавшие мальчика своей мощью, старинные дома, интригующие своим прошлым. Встреча с Нижегородским кремлем состоялась в раннем детстве, когда он мальчишкой лазил по разрушенным стенам и башням старинной крепости в самом центре города. Кремль выглядел вопиющим анахронизмом на фоне новой жизни. Это чувствовали все. Стены мешали, соборы не давали развернуться новому строительству, их взрывали, а на освободившемся месте строили новые здания в стиле модного тогда конструктивизма.
Мальчик пошел учиться в опытно-показательную школу №1, разместившуюся в здании современного педагогического университета и носившую имя Ленина. Среди его одноклассников оказалось немало тех, кто прославил в дальнейшем свое имя и свою страну, например, полярный исследователь, Герой Советского Союза академик Евгений Федоров. Самые дерзкие начинания не казались этим подросткам несбыточными. Стоит ли удивляться, что юный Святослав в 15 лет принимал участие во Всесоюзном конкурсе на проект мавзолея В.И. Ленина? Его проект был отмечен среди 25 лучших работ. Решенный в виде многоярусной высотной композиции, увенчанной фигурой вождя, он перекликался с архитектурой Московского Кремля и был решен в духе нарождавшейся помпезной идеологии. Впрочем, официальная архитектура не стала главным поприщем будущего архитектора, и вполне возможно, что она попросту противоречила культурному духу, царившему в семье.
Два высших образования за восемь лет
Большая дружная семья архитектора Агафонова в 1927 году поселилась в двухэтажном деревянном доме №18 на улице Печерской, построенном по проекту и под наблюдением Леонида Дмитриевича. Это скромное здание и сейчас стоит на Печерской улице. Две двухуровневые квартиры с отдельными тамбурами, террасами, обязательными кладовыми. Винтовая лестница ведет наверх, где, скорее всего, по традиции и располагались детские комнаты. В семье было трое детей – в будущем сестра Ангелина и брат Игорь свяжут свою жизнь с химией, добьются в науке выдающихся результатов. В доме и сегодня живут прямые потомки Леонида Дмитриевича. Отсюда Святослав поехал в Ленинград, уже точно зная, что будет архитектором.
Почему на берега Невы? Частью, по семейной традиции – в этой семье умели беречь традиции. Частью потому, что город на Неве притягивал к себе славой архитектурной и художественной столицы, не поблекшей перед обновленной славой Москвы. За восемь лет Святослав закончил два института, получив архитектурно-строительное и художественное образование, начал работать в проектном институте Ленинграда, но вернулся в родной город. Он проектирует жилые и общественные здания в Горьком, работает над генпланом. Но новое приходится строить, освобождая место от старых построек. Это ли заставило впервые задуматься молодого архитектора о варварстве разрушения? И если можно было смириться со сносом тесных и неблагоустроенных домишек для строительства новых светлых и просторных многоквартирных домов с чудесами цивилизации – паровым отоплением и водопроводом, то поднять руку на седую легенду – кремль - было невозможно.
Кремль стоял в полном запустении, к середине 1930-х годов у властей созревали планы его сноса. Нам вряд ли стоит безоговорочно осуждать городские власти тех лет - перед ними стояли непростые задачи, они были увлечены грандиозными мечтами о строительстве нового мира, им не хватало элементарных культурных знаний. Лучше восхитимся прозорливостью наших земляков, не давших уничтожить этот грандиозный памятник средневековой фортификационной науки. Людьми, поднявшими голос в защиту кремля, стали маститый краевед, сотрудник художественного музея Михаил Званцев и молодой архитектор Святослав Агафонов. В 1938 году они публикуют в городской газете «Горьковский рабочий» статью в защиту кремля. Они доказывают, что кремль – не анахронизм, а великий памятник, демонстрирующий гений итальянского искусства и русского мастерства. Конечно, одна статья вряд ли изменила бы судьбу крепости в стране, лихо воплощавшей самые смелые проекты. Но не будем забывать, что в те годы устоял и Московский Кремль, не тронули тульский, новгородский… Не хватало кирпича и мешала чуждая идеология – брались за церкви. Даже монастырские стены стояли, служа по первоначальному назначению – военно-оборонительному.
От строительства - к реставрации
Впрочем, молодой архитектор вновь уезжает на берега Невы, поступает в аспирантуру Академии художеств. Война возвращает его в родной город. Теперь Агафонов маскирует его от налетов фашистских бомбардировщиков, становится военным архитектором. И… возможно, вновь задумывается о фортификационном гении средневековых зодчих.
Святослав Леонидович селится на правах молодого мужа в доме №15 по улице Ашхабадской. Этот дом, тоже двухэтажный и уютный, как и дом на улице Печерской, отныне и навсегда станет семейным очагом Агафонова, его таинственной творческой лабораторией, магнитом для друзей и единомышленников. И суждено было архитектору полюбить этот дом, окруженный провинциальными вишнями, прожить здесь почти 60 лет, вырастить дочь, продолжившую начатое им дело. Здесь, в небольшой квартирке на первом этаже, на простой чертежной доске, прикрепленной вначале к козлам, потом к креслу, рождались чертежи и рисунки, писались книги.
Окончательный поворот к реставрации вместо нового строительства произошел, видимо, именно после войны. На поприще возрождения архитектурного наследия подтолкнуло постановление Совета Министров РСФСР от 30 января 1949 года о восстановлении памятников истории и архитектуры. В Горьком создается отделение республиканской специальной научно-производственной мастерской, Агафонов приходит сюда работать – и не с пустыми руками, ведь аспирантские изыскания были посвящены истории архитектуры. Понимал ли он тогда, что нашел дело всей жизни? Знал ли о трудностях избранного пути? Наверное, понимал и знал. А еще оказался готов к этому пути всем складом своего характера.
Коллектив архитекторов-реставраторов под руководством Святослава Леонидовича сохранил и вернул нам первоначальный облик памятников, ставших визитной карточкой Нижнего Новгорода, символом его древности и неповторимости. Кремль, Михайло-Архангельский собор, палаты купцов Олисова и Пушникова, церковь Успения на Ильиной горе и многое другое... Он заложил основы реставрационной науки и практики в Нижегородской области, стал первым популяризатором архитектурной истории региона. Возродивший легенду города, его цитадель, он сам стал легендой и цитаделью, охраняя городские святыни от разрушения уже одним своим именем. Именем Агафонова.