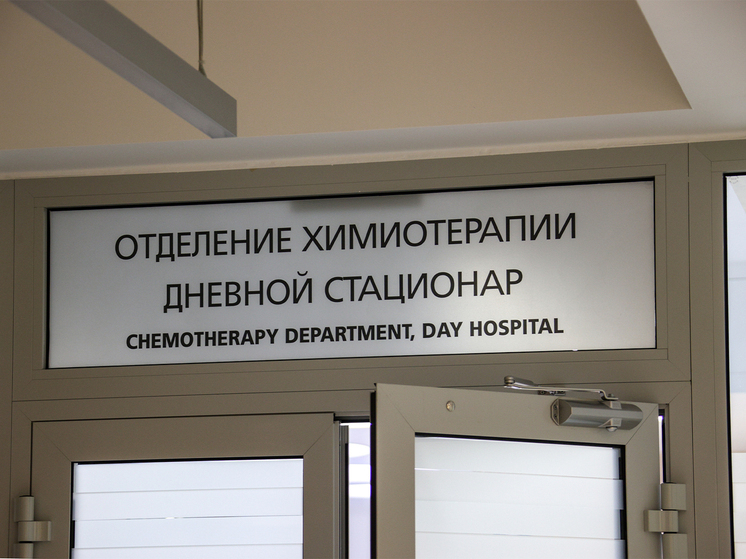Периферия в центрах
Собственно говоря, это далеко не первая метаморфоза, произошедшая с историческим направлением, и вряд ли последняя. Когда-то в нашем госуниверситете был истфил, потом историю и филологию развели, далее от истфака «отпочковался» факультет международных отношений, теперь же историков и международников слили воедино, создав институт.
Сегодня, по словам директора новой структуры Михаила Рыхтика, идет процесс реорганизации – он начался 27 декабря прошлого года, когда появился приказ ректора о преобразовании, и продлится еще полгода. Кое-что уже произошло. В частности, вместо 18 кафедр, существовавших на двух факультетах, образуются 12 новых. Одна только эта разница в цифрах говорит о том, что не все содержательные моменты, существовавшие на истфаке ранее, войдут в новые кафедры. Такими направлениями как краеведение и туризм будут заниматься научно-исследовательские центры – пока принято решение, чтобы их было восемь, но это число непостоянное.
- Центры возникают под решение конкретной задачи при появлении финансирования, - объясняет Михаил Рыхтик. – На сегодняшний день есть задачи, есть люди, которые могут решать эти задачи, а может быть, их и не будет в какой-то момент.
Что будет со студентами и преподавателями
Что касается студентов, то все обязательства перед ними, по словам Михаила Рыхтика, университет выполнит. То есть у них будет возможность завершить обучение и получить диплом, в котором, кстати, и ранее не было написано название факультета, а обозначалось лишь направление (истории, международных отношений и так далее).
- Университет продолжает обучение по всем направлениям, по которым обучали на этих двух факультетах, - уверяет Михаил Рыхтик. – Более того, ребятам будет легче преодолевать искусственно создаваемые бюрократические препоны. Например, хочет студент-международник поехать на археологическую практику – почему нет? Мы найдем возможность это сделать.
Таким образом, формально студенты ничего не теряют. Фактически же качество образовательного процесса в ходе всех этих пертурбаций (какие-то преподаватели уходят, какие-то лекции заменяются другими) может пострадать.
Тем не менее, на некоторые историко-политологические направления, по словам Михаила Рыхтика, вуз получил чуть больше бюджетных мест, чем в прошлом году. Сколько будет мест на следующий год – пока неизвестно.
С преподавателями не все так прозрачно и оптимистично. Понятно, что если кафедр будет меньше чем раньше, некоторым придется уйти на периферию, то есть заняться центрами, которые сегодня есть, а завтра нет. Кому-то, судя по всему, придется вовсе покинуть вуз.
Руководство института уверяет, что все сотрудники получат предложения, но не факт, что эти предложения всех устроят.
- Вообще кадровый состав у нас меняется каждый месяц, - отмечает Михаил Иванович, - и связывать это со структурными изменениями неправильно.
Почему институт?
Многим не до конца ясна причина данной реорганизации. Не задумана ли она для того, чтобы завернуть в красивую обертку банальное сокращение?
По словам Михаила Рыхтика, цель совершенно иная: «поднять рейтинг вуза и повысить качество научно-исследовательских программ». Для ее достижения руководство университета приняло решение мобилизовать лучшие историко-политологические силы, сконцентрировав их в одной структуре и поддержав их имеющимися у вуза ресурсами. Принесет ли эта мобилизация ожидаемые плоды, покажет время.
Правда, не очень понятно, почему новая структура названа институтом – ведь данное понятие в современном его использовании предполагает, как правило, ярко выраженную научно-исследовательскую деятельность. В истории некоторых вузов (НГТУ, например) были такие моменты, когда решение масштабной научной задачи в рамках одной только кафедры требовало создания целого института. Однако сегодня таких всплесков не наблюдается, особенно в гуманитарных науках. Можно говорить лишь о сохранении сложившихся традиций.
- Англоведение, изучение античности, истории края, мировая дипломатия – это все те направления, в которых у нас есть реальные достижения и есть лидеры, научные в том числе, - отмечает Михаил Рыхтик. - И университет, стремясь поддержать перспективные, мощные научные направления, реорганизует старые структуры и формирует новые.
Михаил Иванович добавил, что не стоит обращать много внимания на изменение формы: в содержательном плане, по его словам, наиболее важные аспекты остаются практически без изменений.
Проблемы с идейной надстройкой
Увы, описываемая нами ситуация не единична: ранее произошло вливание истфака Нижегородского педуниверситета в единый факультет гуманитарных наук, в котором теперь существуют всего две исторические кафедры. Федеральный «МК» уже писал о том, что эта тенденция сегодня характерна для России в целом: исторические факультеты объединяются с другими и прекращают свое существование как самостоятельные единицы. А если вспомнить о том, что в школах сокращаются часы, выделяемые на историю, впору задаться вопросами: неужели государству и обществу не нужна данная гуманитарная дисциплина и к чему может привести ее свертывание? Об этом мы решили поговорить с кандидатом исторических наук, доцентом Нижегородского филиала Высшей школы экономики, выпускником истфака ННГУ Юрием Сочневым.
- Юрий Вячеславович, как вы относитесь к данной метаморфозе?
- Происходящие изменения заставляют задуматься о перспективах существования исторической науки. Сейчас мы с удовольствием занимаемся нанотехнологиями. Это естественно и необходимо, но, с другой стороны, мы напрочь забываем о гуманитарном знании.
- Это знание сдает позиции только в вузах?
- Не только. В школах сокращают количество часов, выделенных на историю. Учителя жалуются, что не могут заниматься с ребятами дополнительно (по углубленному изучению ключевых тем, важных как с мировоззренческих позиций, так и для подготовки к ЕГЭ). Нам бы реализовать сейчас то, что заложено в программе, - говорят. В результате сталкиваемся с тем, что школьники, которых надо готовить к ЕГЭ, вообще не знают общественно-политической ситуации и не умеют ориентироваться в ней.
- В чем причина такого отношения государства к историческому образованию?
- Вот смотрите, в СССР истории уделялось большое внимание, и это было связано с идеологическими функциями. Современное российское государство не имеет четкой идеологической позиции.
Покончить с девальвацией
- Насколько, на ваш взгляд, в Нижнем Новгороде сильна историческая наука?
- Я сам закончил истфак, но диссертацию готовил и защищал в институте российской истории РАН. Мне есть с чем сравнивать. Вся наука у нас традиционно там сконцентрирована, и уровень наших вузов, к сожалению, не настолько высок. Нужно понимать, что это реальность, которая не может быть изменена в краткосрочной перспективе. С другой стороны, определенная научная работа в Нижнем Новгороде есть. Она не бурно, но все-таки живет. У меня есть опасения, что хорошие специалисты могут пострадать в ходе реорганизации.
- Ходят разговоры о том, что у нас кафедры раздулись, что слишком много стало докторов наук, и проводимые реформы отчасти связаны именно с этим...
- В этом виновато Министерство образования России, которое направо и налево раздавало разрешения открывать диссертационные советы, университеты… Произошла девальвация высшего образования, и по большей части именно гуманитарного. Не замечать этого нельзя, что-то делать нужно, и нужны реформы. Но часто они происходят исключительно бюрократическими методами, без учета мнения специалистов.
- Вот вы специалист. Как, на ваш взгляд, должны проходить реформы?
- Они должны быть обеспечены и кадрово, и материально. Удручает бедность наших научных учреждений по сравнению с тем, что мы видим, например, по каналу «Дискавери» Наши специалисты мирового уровня делают науку буквально на коленке. Хотелось бы верить в изменения, но пока я их не вижу. Если мы декларируем развитие науки, это должно подкрепляться и финансовыми вливаниями…
- К чему может привести сокращение исторического образования?
- Я с тревогой слежу за этими процессами. Гуманитарное знание – литература, история – формирует мировоззрение гражданина. Как ребенок может сострадать другому человеку, если он не испытывал на себе это? Только посредством чтения литературы. Если мы это исключим и заменим технократическими фильмами, это не даст необходимого обществу уровня воспитания человека. То же самое касается общественно-политической сферы, где история является важнейшей наукой. Раньше нас учили любви к родному краю, к родному дому, к родной стране… Определенные ценностные моменты наша система образования – во многом благодаря педагогам – пока еще передает. Но если мы и дальше будем бездумно подходить к этому, не будем ценить то, что у нас существует, боюсь, проблемы будут усиливаться, нарастать.
К сожалению, кризисные события, которые в современном мире наблюдаются - на Украине, да и у нас внутри достаточно много было разных моментов, - они во многом связаны с недостатком гуманитарного образования.